
Терроризм во всем многообразии его проявлений стал одной из самых острых проблем борьбы с преступностью ХХI века. Не случайно еще в Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики 2001 года указывалось, что криминализация общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма являются основными угрозами национальной безопасности страны. Так, в течение двух лет (1999-2002 гг.) южный регион Кыргызстана подвергался незаконному вторжению международных террористов религиозного толка, одержимых идеей создания на территории Центральной Азии так называемого государства «Исламский халифат». Последствия такого вторжения, которое повлекло за собой захват заложников, грабежи и убийства мирного населения, выявили существенные недостатки, связанные с правовыми и организационными аспектами противодействия терроризму. Произошедшая в последующем (2002-2003 гг.) серия взрывов в городах Ош и Бишкек Кыргызской Республики еще раз наглядно подтвердили опасность терроризма, создающего прямую угрозу безопасности страны, общества и личности .
В настоящее время деятельность террористических группировок все еще продолжает оставаться одним из факторов дестабилизации социально-политической ситуации в Кыргызской Республике. Ведь высокая общественная опасность терроризма обуславливается прежде всего тем, что способы насилия, при помощи которых они осуществляются, порождают атмосферу страха, неуверенности, нарушают общественную стабильность, вызывают панику среди населения и беспорядок в обществе.
Не так давно, в ноябре 2010 года на юге страны вновь прогремели взрывы, посеявшие панику среди населения. Позже правоохранительные органы разъяснили в СМИ, что 29 ноября в г.Ош была проведена спецоперация, в результате которой было уничтожено трое боевиков, еще один подорвал себя гранатой, установлена их причастность к террористической организации ИДУ . Со слов заместителя главы ГСНБ Кольбая Мусаева «обезвреженная группа готовила 33 террористических акта:
8 взрывов - в г. Бишкек, 14 - в г. Ош и 11 - в Ошской области» .

Утро следующего дня (30 ноября 2010 года) сотряс взрыв у столичного Дворца спорта, где проходил судебный процесс по так называемому «Делу 7 апреля». Обошлось без жертв, за исключением пяти человек которые были ранены осколками и взрывной волной.
Очевидно, что задачи борьбы с терроризмом приобретают характер острейшей государственной проблемы. Кыргызская Республика в целях решения таких задач заключила ряд международных договоров о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, приняла соответствующие нормативные правовые акты в рамках национального законодательства . В общих чертах уголовная политика в области борьбы с терроризмом была определена в Указе Президента КР от 18.02.2009 года №115 «О Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики, которым обозначались задачи и меры по пресечению деятельности террористических организаций. Понятия «терроризм», «террористическая деятельность» раскрываются в Законе Кыргызской Республики «О противодействии терроризму», от 10.11.2006 года . Кроме этого, Закон определил основные принципы противодействия терроризму, организационно-правовые основы профилактики и борьбы с ним, минимизации последствий терроризма, порядок координации деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом, права и обязанности в связи с осуществлением противодействия терроризму, а также порядок международного сотрудничества в соответствующей области.
В комплексе мер противодействия терроризму Закон Кыргызской Республики «О противодействии терроризму» справедливо важную роль отводит уголовно-правовым мерам, в нем приведен перечень преступлений террористического характера, за которые уголовная ответственность наступает в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республики (далее - УК КР). К сожалению, анализ действующего уголовного законодательства свидетельствует о том, что эти нормы пока еще далеки от совершенства и у законодателя имеются резервы для их дальнейшей модернизации. Не претендуя на полное решение указанных проблем, которые связаны, прежде всего, с экономическими, политическими, правовыми и социальными факторами, автор хотел бы обратить внимание на предложенную разработку возможных путей защиты личности, общества и государства.
Итак, анализ статьи 226 УК КР предусматривающей ответственность за терроризм, позволил нам выявить ряд допущенных законодателем при ее конструировании технико-юридических недостатков, создающих трудности при ее толковании и применении.
Во-первых, необходимым элементом объективной стороны преступления выступает угроза совершения террористического акта, что само по себе является новеллой уголовного закона. Понятно, что включение в статью этой формы деяния обусловлено рядом причин: а) необходимостью криминализации случаев совершения «предупреждающих» взрывов, поджогов и иных подобных действий, в результате которых не создастся опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, но которые, по мысли виновных лиц, предназначены продемонстрировать реальность их намерений; б) необходимостью усиления ответственности за столь опасное преступление как терроризм путем переноса момента окончания преступления с фактического совершения действий на более ранний этап - высказывание соответствующей угрозы .
Под «угрозой» понимается «обещание» совершения указанных в ч.1 ст.226 УК КР действий, т. е. психическое воздействие на людей в форме выражения намерения совершения взрыва, поджога или иных подобных действий. Однако угроза в соответствии с принятым в уголовном праве подходом включает в себя не просто одно только высказанное намерение учинить акт терроризма, но и совершение действий, свидетельствующих о серьезности и реальности такого намерения. Например, приобретение взрывчатых веществ или оружия, совершение «предупреждающих» взрывов и поджогов, выполнение подготовительных действий к отключению жизнеобеспечивающих объектов либо нарушению технологических процессов, блокированию транспортных коммуникаций и т. п. Именно реальность намерения, объективировавшаяся в конкретных действиях отличает угрозу от высказывания в форме обнаружения умысла и придает ей уголовно-правовой характер.
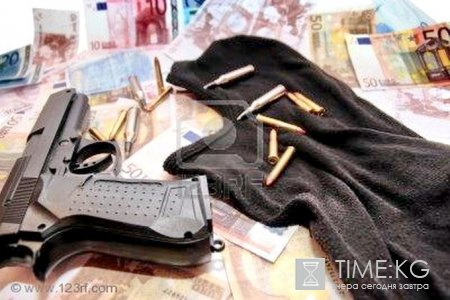
Вместе с тем одной «решимости» лица на выполнение угрозы, реализация которой сопряжена со сложной предварительной подготовкой и преодолением множества препятствий, для квалификации по ч.1 ст. 226 УК КР вряд ли достаточно.
Не следует забывать и того факта, что включение в объективную сторону террористического акта «угрозы совершения указанных действий...» многими учеными и практиками обоснованно рассматривается как нарушение законодателем им же провозглашенных принципов равенства граждан перед законом, справедливости и гуманизма, поскольку тяжесть совершенного террористического акта в этом случае фактически приравнивается к тяжести угрозы его совершения, что соответственно влечет и одинаковое наказание за эти деяния . Бесспорно, что угроза актом терроризма не может быть идентифицирована как теракт, она обладает меньшей степенью общественной опасности. Это нужно учесть и при установлении санкции, которая должна быть менее строгой и более вариативной, для того чтобы у угрожающего был мотив не доводить угрозу до исполнения.
В этой связи целесообразно исключить упоминание угрозы совершения террористического акта из ст. 226 УК и создать самостоятельную норму в следующей редакции: «Статья 226 прим.1 Угроза совершения акта терроризма» .
Возможно, наше предложение не найдет поддержки у тех, кто придерживается мнения о том, что помещение угрозы совершения террористического акта в отдельную статью УК приведет к необоснованному увеличению количества статей в главе 24 УК КР и, как следствие, затруднит обозримость нармативно-правового материала. В этом случае, может быть предложен другой вариант, позволяющий дифференцировать ответственность, когда угроза совершения акта терроризма будет сформулирована в отдельной – первой части ст. 226 УК КР, а в ч.2 – предусмотрена ответственность за совершение взрыва, поджога…
Во-вторых, при дальнейшем анализе текста ст. 226 УК КР сомнения вызывает обоснованность употребления в диспозиции части 1 термина «действия», который предполагает лишь активную форму преступного поведения человека . На наш взгляд, очевидна возможность осуществления актов терроризма и путем бездействия (например, посредством невыполнения обязанностей по отключению определенных производственных или технологических процессов в энергетике, на транспорте, в добывающей промышленности). Поэтому при конструировании объективной стороны акта терроризма необходимо использовать универсальный термин «деяние», включающий в себя значения сразу двух терминов «действие» и «бездействие». Правильность подобных выводов подтверждает и то, что в частях 2 и 3 ст. 226 УК КР при описании объективной стороны преступления законодатель употребляет именно термин «деяние».
В-третьих, другой технико-юридический недостаток ст. 226 УК КР, по нашему мнению, заключается в том, что цель террористического акта «воздействие на принятие решения органами власти» представлена слишком узко. Ведь практика показывает, что требования могут быть предъявлены к различным юридическим и физическим лицам, представителям общественных организаций, должностным лицам . При этом в качестве побудительных мотивов терроризма может выступать желание достигнуть каких-либо экономических, политических, сепаратистских, криминальных целей . Тем более нелогичным указанное положение ст. 226 УК выглядит на фоне ст. 227 УК КР, предусматривающей ответственность за захват заложника в целях принуждения «государства, международной организации, юридического или физического лица» совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия, ибо по международным стандартам захват заложника рассматривается как разновидность терроризма, поэтому и состав терроризма должен содержать признаки всех адресатов воздействия террористов.
С учетом изложенного, представляется целесообразным расширить список адресатов воздействия террористов, использовав в ч. 1 ст. 226 УК КР конструкцию «воздействие на принятие решения органами власти, юри¬дическими или физическими лицами».
Четвертое. В науке давно отмечается неудачность выделения в ч. 2 ст. 226 УК КР такого квалифицирующего признака как совершение терроризма с применением огнестрельного оружия.
Из действующей редакции ч. 2 ст. 226 УК следует вывод, что законодатель счел использование огнестрельного оружия при совершении террористического акта более опасным, чем применение в тех же целях взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. Однако осуществление взрыва, поджога, отравления водопровода и т.п. создает гораздо большую опасность наступления общественно опасных последствий, чем применение огнестрельного оружия. Кроме того, термина «иные действия» вполне достаточно для того, чтобы охватить все возможные способы совершения теракта.
Само существование указанного квалифицированного признака на практике может привести к парадоксальным ситуациям, когда взрыв гранаты на площади, взрывного устройства, затопление населенного пункта или эпидемия, будут квалифицированы по ч. 1 ст. 226 УК КР, а единичный выстрел из винтовки на той же площади потребует вменения п. 2 ч. 2 ст. 226 УК КР.

Исходя из сказанного, предлагается исключить п.2 ч.2 ст. 226 УК КР (с применением огнестрельного оружия).
В-пятых, неудачен и квалифицирующий признак ч. 3 ст. 226 УК КР, устанавливающий повышенную ответственность за терроризм, повлекший по неосторожности причинение смерти или иные тяжкие последствия. Дело в том, что сама природа терроризма предполагает устрашение населения, оказание воздействия на принятие решений органами власти посредством наведения тотального страха.
Как правило, умысел виновных в таких случаях неопределен, но закладывая взрывное устройство в общественных местах, выбирая общеопасный способ совершения терроризма, виновный понимает, что в результате взрыва может быть причинена смерть или вред здоровью находящихся по близости лиц (совершение актов терроризма на пустырях и за городом, в другом безлюдном месте лишено смысла), относится к ним безразлично, что свидетельствует не о неосторожном отношении виновного к содеянному, а о наличии у него косвенного умысла .
Все вышеотмеченное наталкивает на необходимость изменения редакции ч.3 ст. 226 УК КР, которую в этой части следует изложить следующим образом: «деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо сопряжены с убийством человека либо повлекли иные тяжкие последствия»
На наш взгляд, представляется обоснованным и логичным введение в ч.3 ст. 226 УК дополнительных особо квалифицирующих признаков терроризма: «с применением оружия массового поражения или сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения».
Не претендуя на окончательный вариант разрешения весьма сложной проблемы, предлагается следующий вариант совершенствования уголовного законодательства об ответственности за терроризм.
«Статья 226. Терроризм
(1) Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, юридическими или физическими лицами -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
(2) Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
(3) Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они совершены организованной группой, с применением оружия массового поражения или сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения, сопряжены с убийством человека либо повлекли иные тяжкие последствия», наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления».
«Статья 226 прим.1. Угроза совершением акта терроризма
(1) Угроза совершением взрыва, взрыва, поджога или иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, юридическими или физическими лицами, -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
(2) Угроза совершением акта терроризма, совершенная повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо повлекшая иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
Представляется, что введение предлагаемых изменений в УК КР позволит расширить инструментарий правоохранительных органов, направленный на борьбу с терроризмом и будет способствовать более эффективной борьбе с этим явлением.
Автор: Эсенбекова А.Т. easttime.ru



