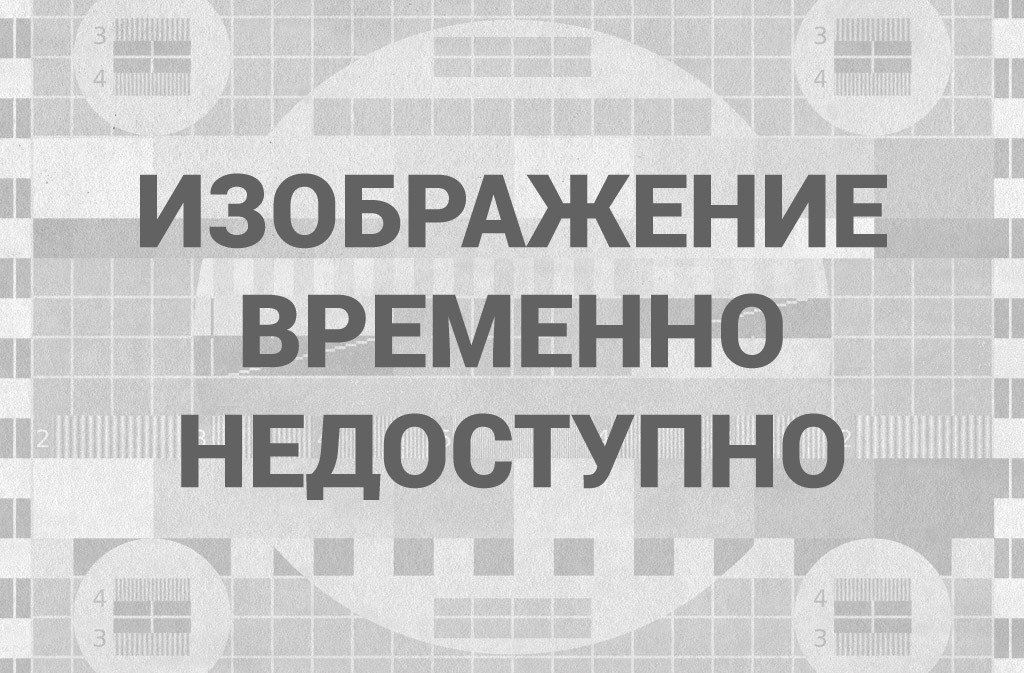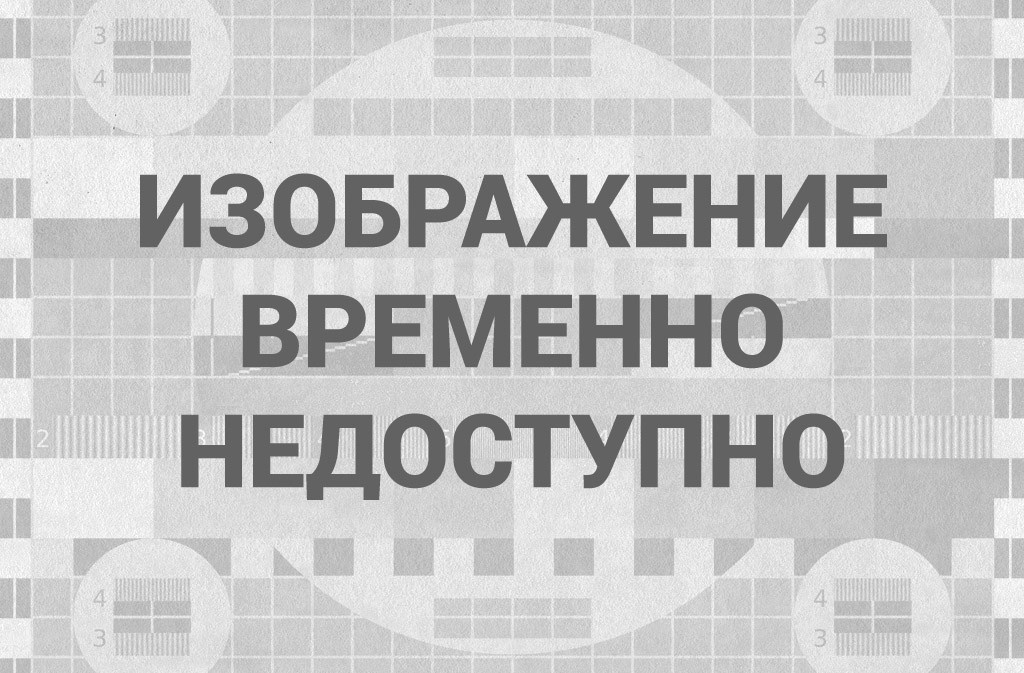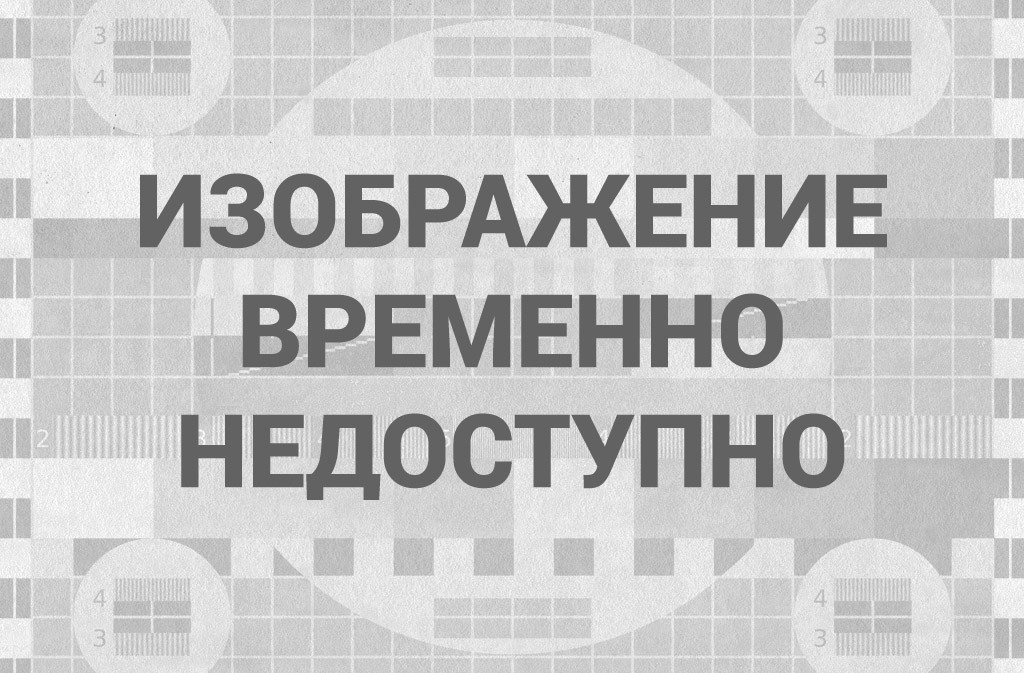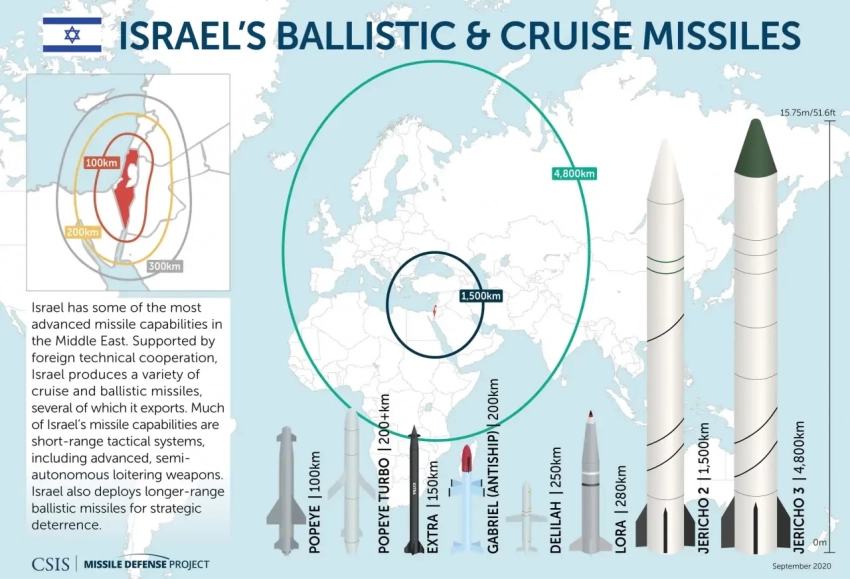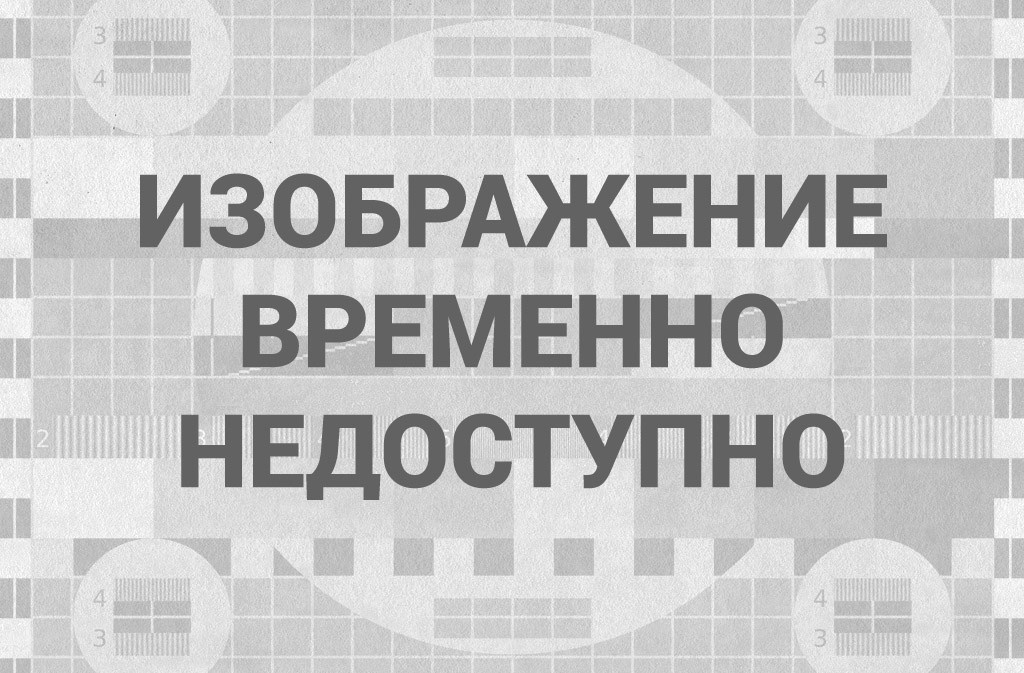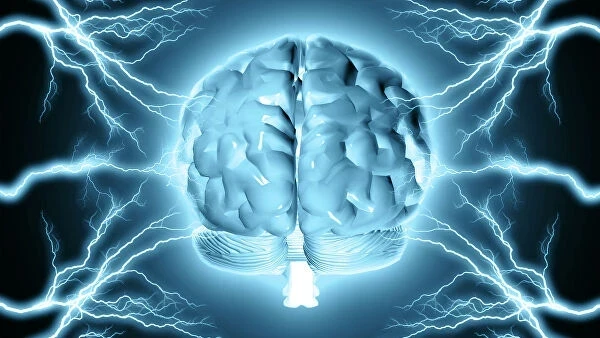
Как можно понимать окружающий мир, если восприятие ограничено возможностями нашего мозга, заключенного в черепной коробке? На этот вопрос отвечает нейробиолог Дейл Пёрвес в своем исследовании.
Представьте ситуацию, когда кто-то моет руки, и в раковине появляется вода, окрашенная в темно-красный цвет. Как вы отреагируете на это? Ваша интерпретация будет зависеть от контекста и вашего жизненного опыта. Если это происходит в туалете на автозаправке после просмотра криминального фильма, вы, вероятно, подумаете о серийном убийце. Однако если это происходит на кухне, возможно, причина в порезе при готовке. В художественной мастерской вы сможете понять, что это просто красная краска, которая сложно отмывается. Ваша реакция формируется под воздействием множества факторов.
Согласно философу-биологу Якобу фон Икскюлю (1864–1944), мы существуем в «умвельте» — мире, центром которого являемся мы сами. На первый взгляд, кажется, что мы просто воспринимаем сенсорную информацию и принимаем решения на ее основе. Но это не так просто. Наши органы чувств — глаза, уши, нос, язык и кожа — фильтруют воспринятую информацию. Мы не способны уловить все. Например, люди не видят ультрафиолетовый свет, как это делают птицы, и не слышат инфразвук, как киты и слоны. Размер и форма нашего тела также влияют на наши действия. Спортсмены-паркурщики поражают своим мастерством, но они подвергаются травмам, которые не грозят кошкам, выполняющим аналогичные трюки. Каждое живое существо имеет свои способы взаимодействия с окружающей средой, что также накладывает ограничения. Кроме того, условия окружающей среды меняются, что напрямую влияет на доступные источники питания для животных. Например, в сезон дождей много травы, от чего зависит, кто будет ее есть, а следовательно, и кто будет есть тех, кто ест траву. В конечном итоге, каждому из нас необходимо научиться действовать в этом изменчивом мире, который невозможно полностью понять с помощью органов чувств или физических возможностей.
Тем не менее, существует еще одно ограничение, о котором часто забывают. Мы склонны верить, что то, что мы видим (или слышим, или чувствуем), отражает реальность достаточно точно, и что другие воспринимают это так же. Однако это не так. Базовая сенсорная информация часто искажена. Например, наше восприятие основных цветов зависит от освещения, цвета окружающих объектов и других факторов. Наши глаза не улавливают мир в его истинном виде, поскольку не могут измерить длину волны, как делают спектрофотометры.
Дейл Пёрвес, профессор нейробиологии в Университете Дьюка в Северной Каролине, утверждает, что поскольку мы никогда не сможем увидеть мир в его истинном виде, главная задача мозга заключается в том, чтобы помогать нам устанавливать связи, которые будут направлять наше поведение. Он считает, что «поиск смысла» — это активный процесс, при котором мозг, опираясь на прошлый опыт, делает выводы, о которых мы даже не подозреваем, чтобы интерпретировать и формировать целостную картину окружающего мира. Мозг использует усвоенные шаблоны и ожидания, чтобы компенсировать несовершенные чувства и ограниченный опыт, стремясь дать нам наилучшее понимание мира.
Пёрвес — выдающийся ученый, который на протяжении многих лет менял свои исследовательские интересы, стремясь понять, как функционирует мозг, и обращаясь к новым, незнакомым областям, вместо того чтобы следовать модным трендам или придерживаться проверенных путей. Его карьера иллюстрирует мысль Виктора Франкла о том, что успех и счастье не следует преследовать; они приходят сами по себе как побочный эффект преданности делу, которое важнее самого человека.
Если судить по достижениям, Пёрвес действительно добился успеха: он был принят как в Национальную академию наук (1989), так и в Национальную медицинскую академию (1996), что считается одной из высших наград для ученых в США. Если его имя вам знакомо, возможно, вы сталкивались с его учебником по неврологии, который стал одним из самых популярных в этой области.
Однако путь к нейробиологии не был у Пёрвеса прямым. В университете Йеля он испытывал трудности, но вскоре нашел свое призвание в философии и решил изучать медицину. Его интерес к науке был сильным, но он не знал, как стать ученым, и медицина казалась ему самым близким вариантом. В 1960 году он поступил в Гарвардскую медицинскую школу с намерением стать психиатром. На первом курсе он слушал лекции по нервной системе, которые вели молодые нейробиологи, некоторые из которых впоследствии стали известными учеными ХХ века, такими как Дэвид Поттер и Эд Фюршпан. В 1964 году он получил диплом врача, но вскоре разочаровался в психиатрии и попытался переключиться на общую хирургию, осознав, что не имеет достаточного интереса к этой области.
В 1965 году, во время войны во Вьетнаме, Пёрвес попал в армию, но, будучи врачом, был направлен служить в Корпус мира и оказался в Венесуэле. Там он наткнулся на книгу «Механизм мозга» (1963) Дина Вулдриджа, которая обобщала знания, полученные им на первом курсе. Книга была написана для широкой аудитории и содержала актуальную информацию о мозге человека и животных, проводя аналогии с компьютерными технологиями того времени. Вернувшись в США, он сосредоточился на исследованиях в области нейробиологии.
Мой первый опыт знакомства с работами Пёрвеса пришелся на начало 1990-х, когда я учился в Университете Айдахо. Изучая философию, я также интересовался нейробиологией и искал возможность провести практическое исследование под руководством профессора.
Мы работали с маркерами иммунной системы двигательных нейронов в спинном мозге крыс, отвечающих за сокращение мышц ног. Мой научный руководитель, Марк ДеСантис, рекомендовал мне книгу Пёрвеса. В то время было немного курсов и серьезных работ о мозге, и его книга «Тело и мозг: трофическая теория нейронных связей» (1988) оказалась для меня идеальной. Основная идея заключалась в том, что выживание нейронов и количество образуемых ими связей зависят от целей. В отличие от статичной печатной платы компьютера, нейронные цепи формируются на лету, основываясь на сигналах от связанных объектов, будь то другие нейроны или мышцы. Это означает, что в процессе развития организма или эволюции вида нейронные цепи корректируются соответствующим образом.
Одним из любимых примеров Пёрвеса является работа его кумира, Виктора Хамбургера, который в 1930-х годах изучал развитие центральной нервной системы, сначала в Чикагском университете, а затем в Вашингтонском университете. Он доказал, что в развивающемся эмбрионе курицы больше нейронов, чем у взрослой особи, и предложил, что мышцы, на которые воздействуют эти нейроны, вырабатывают ограниченное количество питательных факторов, необходимых для их выживания. Хамбургер показал, что размер целевой ткани определяет, сколько нейронов может быть поддержано. Он экспериментировал с эмбрионами цыплят, ампутируя один из зачатков крыльев и наблюдая за изменениями в количестве двигательных нейронов.
В 1970-80-е годы Пёрвес работал как коллега Хамбургера в Вашингтонском университете, изучая выживаемость нейронов и формирование синапсов. Он исследовал, характерна ли закономерность, установленная Хамбургером, для других животных и зависит ли количество синапсов от конкуренции за питательные факторы.
Нейроны имеют различные формы и размеры, и их сложность варьируется. Если вы видели классическое изображение нейрона, вы знаете, что он напоминает древесное или кустарниковое строение с многочисленными отростками. Пёрвес и его аспирант Джефф Лихтман исследовали, как количество синапсов меняется в процессе развития у разных видов. Они начали с простого нейронного соединения, в котором принимающий нейрон не имел дендритов, а аксоны передающего нейрона образовывали синапсы непосредственно на теле принимающего нейрона. Путем хирургического извлечения компактной группы нейронов, известной как «ганглий», они могли визуализировать и подсчитать количество ответвлений нейронов.
Каждый конец ветви представляет собой синаптическое соединение. Сравнивая соединения у развивающихся крыс и взрослых особей, они обнаружили, что молодые крысы первоначально формируют разнообразные синапсы, а по мере взросления нейронные цепи становятся более организованными. Процесс включает удаление лишних соединений и усиление связей от подходящих нейронов.
Пёрвес и Лихтман воспроизвели это открытие на более сложных нейронных сетях у других видов.
Некоторые художники проходят через определённые этапы в карьере, в то время как другие остаются верными своим темам и подходам на протяжении десятилетий. То же самое касается и ученых. Большинство из них сосредотачиваются на одном вопросе и углубляются в него, в то время как другие находят удовлетворение в уже известных ответах и переходят к новым проблемам. Пёрвес относится ко второму типу исследователей, которые многократно меняли направления своих исследований. Его работа, подтверждающая трофическую теорию, указывала на необходимость использования молекулярных инструментов для визуализации развития синапсов. Однако он не заинтересовался этой идеей. Его внимание оставалось сосредоточенным на нейронных цепях периферической нервной системы, так как их проще визуализировать. Мозг же представляет собой более сложную структуру, где происходит множество важных процессов, но выяснить, какие связи исчезают, а какие формируются, гораздо сложнее.
В конце 1980-х и 1990-х годов нейробиология сосредоточилась на изучении мозга, особенно неокортекса, который значительно увеличился у приматов, включая человека. Многие те, кто исследовал развитие мозга, вдохновлялись работами лауреатов Нобелевской премии Хьюбела и Визеля, которые показали, что в зрительной части неокортекса есть критический период развития. В это время Пёрвес достиг среднего возраста и столкнулся с вопросом, каковы его дальнейшие шаги. Он стал учёным, который мог исследовать что угодно, но это должно быть интересно и важно, а также поддаваться изучению: необходимо формулировать четкую гипотезу, которая приведет к однозначному выводу. Ответ пришёл в лице нового сотрудника, Энтони-Сэмюэля Ламантии, который в 1988 году присоединился к лаборатории в качестве постдокторанта. Вместе они решили исследовать, как растет мозг.
Существует столько видов мозга, сколько и животных, и каждый из них уникален, так как отражает принцип «форма следует за функцией». Каждый вид формируется под воздействием естественного отбора, который влияет на его развитие в ответ на вызовы окружающей среды. Нейробиологи изучают анатомию решений, используя различные методы визуализации. Например, они могут наблюдать повторяющиеся паттерны нейронных связей, которые представляют собой модули, напоминающие пятна или полосы на коже животных.
Пёрвес стремился понять, как развиваются эти повторяющиеся паттерны связей. Вначале он изучил обонятельную луковицу мыши, находящуюся за пределами неокортекса. У мышей в этой структуре имеются модули, известные как «гломерулы». Эти луковицы более доступны для экспериментов. Пёрвес и Ламантия разработали метод, который позволял обнажать луковицы у живых животных и окрашивать гломерулы безопасным красителем. Они обнаружили, что мыши рождаются с неполным набором гломерул, и в процессе развития к ним добавляются новые. Это стало неожиданным открытием, так как многие теории утверждали, что развитие мозга происходит в основном за счет отбора полезных нейронных цепей из множества вариантов. Теперь стало ясно, что полезные нейронные цепи создаются. Более того, если нейронные цепи формируются после рождения, то на них может влиять опыт. Возник вопрос: появляются ли подобные модули у других видов и в других областях мозга? В зрительной коре макак-резусов, наиболее близких к человеку, исследователи не могли наблюдать за развитием модулей, как у мышей, однако смогли подсчитать количество паттернов у молодых и взрослых обезьян. В отличие от гломерул у мышей, количество паттернов оставалось неизменным.
Это открытие не удовлетворило Пёрвеса. Он надеялся обнаружить что-то новое в процессе развития неокортекса приматов, что могло бы стать основой для его исследовательской программы. Однако пришел к важному выводу: многие ученые, включая известных нейробиологов, стремились выявить в модулях мозга ключевые особенности неокортекса, которые отвечали бы за конкретные поведенческие или перцептивные цели. Например, один модуль в сенсорной коре крысы отвечает за обработку сигналов от одного уса на морде. Пёрвес заметил, что повторяющиеся паттерны могут быть общими для одного вида, но отсутствовать у близкородственных видов. Более того, они не всегда связаны с функциями. Модули присутствуют в зрительной коре человека и обезьяны и связаны с цветовым зрением, но у ночных приматов с плохим цветовым зрением они также есть. Таким образом, модули не обязательно выполняют функцию цветового зрения. Похожая ситуация наблюдается у шиншилл и крыс: у них есть «бочкообразная» кора, но у шиншилл отсутствуют движения усов, как у крыс. У кошек и собак также есть усы, однако в их сенсорной коре нет соответствующих модулей.
Так почему же образуются такие модули? Пёрвес предположил, что повторяющиеся паттерны возникают из-за того, что синаптические связи взаимодействуют друг с другом, создавая новые связи по наиболее активным направлениям. То есть, повторяющиеся паттерны мозга являются побочными продуктами взаимодействия нейронных связей и конкурирующих паттернов активности. Эти паттерны активности генерируются сенсорными сигналами от органов чувств — глаз, ушей, носа и кожи. Таким образом, появление паттернов в мозге не обязательно свидетельствует о том, что они были созданы с конкретной целью.
Впервые я встретился с Пёрвесом в 1993 году во время собеседования для поступления в аспирантуру, когда он уже работал в Университете Дьюка. Я много читал о его работах и восхищался его стремлением заниматься нестандартной, но важной научной деятельностью. Во время собеседования мне удалось спросить его о портретах на стенах его кабинета, на которых были изображены ученые. Джон Ньюпорт Лэнгли, британский физиолог XIX века, сделал важные открытия в области нейромедиаторов и вдохновил Пёрвеса на решение научных проблем. Виктор Хамбургер, значимая фигура в эмбриологии XX века, был другом Пёрвеса, несмотря на разницу в возрасте. На одной из фотографий был Стивен Каффлер, лауреат Нобелевской премии, который обучал Пёрвеса в медицинской школе. Пёрвес считает его наставником, показавшим путь в нейробиологии. На последнем портрете был Бернард Кац, лауреат Нобелевской премии, который исследовал взаимодействие нейронов с мышцами. Пёрвес работал с Кацем в 1970-х и считает его примером научного совершенства. Меня приняли в Университет Дьюка, и через год я переехал в Дарем, Северная Каролина, надеясь учиться у Пёрвеса или Ламантии.
Когда я пришел в Университет Дьюка, Пёрвес собирался кардинально изменить направление своих исследований, полностью отказавшись от изучения мозга. Это казалось странным после всех его достижений в исследовании нервной системы. Но он снова поддался своему инстинкту и переключился на изучение восприятия. У него возникло предчувствие, что для понимания того, как мозг управляет поведением, недостаточно только анатомических знаний о мозге и функциях нейронных цепей. Это предчувствие возникло у него во время учебы по философии. Философ Джордж Беркли (1685–1753) заметил, что глазные яблоки воспринимают трехмерные объекты разных размеров и проектируют их на сетчатку в одном и том же размере, что приводит к проблемам с восприятием (известным как проблема обратной оптики).
Герман фон Гельмгольц (1821–1894) предложил решение обратной задачи, утверждая, что восприятие зависит от обучения и опыта. Мы обучаемся понимать объекты путем проб и ошибок, делая выводы о неоднозначных изображениях. Пёрвес взял эту идею и построил вокруг нее свою исследовательскую программу. С середины 1990-х он и его коллеги систематически анализировали различные зрительные иллюзии, связанные с яркостью, контрастностью и движением, показывая, что наше восприятие — это конструкция, основанная на опыте, а не точное отражение реальности.
В одном из экспериментов Пёрвес и его коллега Бо Лотто создавали два квадрата одного цвета на разных фонах. Участники должны были настроить оттенок и яркость, чтобы квадраты выглядели одинаково. Результаты показали, что восприятие зависит от предыдущего опыта взаимодействия с миром. Это стало важным выводом о том, что мозг работает на основе эмпирических данных.
Это подход отклоняется от традиционного взгляда, согласно которому мозг извлекает характеристики объектов и комбинирует их для управления поведением. Пёрвес утверждает, что мы формируем наш «умвельт» — эгоцентричный мир на основе ассоциаций между событиями, контекстом и последствиями действий. Наша способность к восприятию во многом зависит от опыта и усвоенных ассоциаций, которые развиваются в процессе взаимодействия с окружающей средой. Это имеет смысл, так как окружающая среда постоянно меняется, и у каждого животного появляются разные задачи.
Работы Пёрвеса приводят к более глубоким философским вопросам. В какой степени окружающая среда, которую осмысливает мозг, действительно существует? Реальна ли действительность? Пёрвес демонстрирует, что даже если она существует, наше восприятие ее ограничено. Например, не все видят цвета одинаково. На это влияют факторы окружающей среды и личный опыт. Где вы живете? Есть ли у вас зрение? Как ваша физиология формирует ваше восприятие? Эти вопросы важны для понимания того, как мы воспринимаем мир.
Энни Диллард в своих мемуарах описывает, что происходит, когда слепые люди внезапно обретают зрение. Могут ли они видеть мир так, как его видим мы? Большинство не могут. Один из примеров: слепому человеку давали куб и сферу на ощупь, и он мог их правильно идентифицировать. Но после операции, когда ему показывали эти же предметы, он не понимал, что видит. Это иллюстрирует, насколько важен опыт для восприятия.
В настоящее время у Пёрвеса достаточно исследовательских данных, чтобы продемонстрировать, как функционирует нервная система, или, как он осторожно выражается, «как она, по-видимому, работает». Функция нервной системы заключается в создании и изменении нейронных связей для адаптивного поведения в мире, который сенсорные системы не могут точно отобразить. Это связывает его исследования с современными идеями о том, как биологические агенты должны формировать нервную систему, соответствующую форме и размеру меняющегося тела.
Я недавно спросил Пёрвеса, как он оценивает свой карьерный путь. Его ответ отличался от того, что я ожидал. Я считал, что он всегда искал ответ на вопрос: «Как устроена нервная система?» Однако он не видит четкого сюжета. Он отметил, что в своей работе часто руководствуется практическими соображениями. Тема, которую я упомянул, не была для него основной. Но оглядываясь назад, он соглашается, что это повествование кажется подходящим.
Выдающиеся открытия Пёрвеса стали следствием его уникального подхода к науке. В нейробиологии распространены разные пути: исследователь выбирает одну проблему и углубляется в нее или осваивает новую технологию, а затем ищет вопросы, которые можно решить с ее помощью. Но Пёрвес формулирует важные вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», и затем находит средства для получения ответов. Это демонстрирует его глубокое понимание значимости научных открытий и их места в общей картине науки о мозге. Дейл Пёрвес оставил заметный след в исследованиях — от нейронных цепей до нового понимания работы мозга.